Историк гумилев писал москва занимала

Создатель пассионарной теории этногенеза. Этого не избежала даже великолепно отлаженная административная система Диоклетиана, преемники которого вынуждены были капитулировать перед пассионарными консорциями. Николай Харджиев прозвал Пунина «сумасшедшим завхозом».
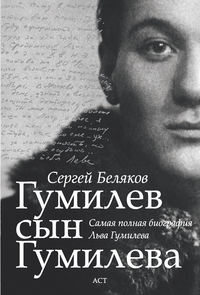
Соответственно, роза кивает на девушку, девушка кивает на розу, никто не хочет быть самим собой, все явления этого мира, о которых мы говорим, имеют смысл, имеют значение, потому что они соответствуют чему-то тотальному, неким платоновским идеям. А у Мандельштама в —е годы это, очевидно, не так.
У него все земные, посюсторонние явления, которые вступают между собой в сложные ассоциативные отношения, — они самоценны, они обладают в каком-то смысле равным весом. И я думаю, что та поэтика, к которой пришёл бы Гумилёв, была бы вариантом вот этой поэтики, к которой разными путями шли и Мандельштам, и Ахматова, и, скажем, Клюев, и целый ряд других поэтов. И Кузмин, конечно, в «Форели» и других своих поздних стихах. Но разве не такой переход на некий надмирный, метафизический, потусторонний уровень происходит в «Заблудившемся трамвае», который оказывается транспортным средством в некие совершенно другие миры и плоскости, в другие вселенные, где есть даже предыдущие инкарнации героя?
Но эти другие вселенные — продолжение вот этого мира, в котором герой живёт. Это мир, где смертью ничего не кончается, где смерть открывает какие-то новые горизонты.
Да, он ведь служит «панихиду по мне» — по самому себе в одном из предыдущих своих воплощений, видимо. Вообще идея посмертного бытия у Гумилёва очень интересная. Тут можно вспомнить, например, эпизод из его пьесы «Дитя Аллаха», где убитый воин является и рассказывает, что на том свете. Он, собственно, не в раю, он в аду. И мы можем прочитать «Заблудившийся трамвай» как описание какого-то загробного путешествия души, где опыт земной жизни разворачивается тоже каким-то совершенно неожиданным образом.
А можно и по-другому прочитать, конечно. Это не единственно возможное прочтение. Мне хочется, как в своё время предлагал Михаил Гаспаров, просто посмотреть, пересказать, что здесь происходит. Потому что, действительно, эти пласты, эти другие миры накладываются друг на друга. Как мне кажется, можно было бы кинематографически изобразить стихотворение — потому что сквозь то, что герой этого стихотворения видит, постоянно как бы проступает он, всё ещё едущий в этом трамвае, он в Бейруте, он, очевидно, во время Великой французской революции и казни.
И всё это одновременно переживается. Можно ли вычленить фабулу этого стихотворения? Я, кстати, не уверен, что это французская революция, потому что это, конечно, русский палач в красной рубахе. Но давайте по порядку. Трамвай уносит героя. Причём здесь нет никакого сигнала о его смерти. Он погружается в какое-то состояние очень странной смерто-жизни. И трамвай везёт его не в какие-то иные обители, он везёт его в места, которые герой видел при жизни. Неву, Нил и Сену.
Да, прекрасно знал. Причём, поскольку для Гумилёва очень важным было создание своей биографической легенды, он знает сам про себя, что он в этих местах был, и он знает, что это знают его читатели.
Да, в Бейруте он мог быть в ходе путешествий по Средиземному морю. Бейрут — это же Ливан. Это приморский город. Естественно, пароходы там останавливаются. Это была стоянка перед Порт-Саидом. И в ходе вот этого путешествия через свою жизнь, через свои воспоминания, причём не хронологически устроенные, он встречает заведомо мёртвого человека.
И это сигнал о том, что его с его статусом живого, с его пребыванием в жизни-смерти всё не так просто. Может быть, он умер, может быть, он, как Данте, вошёл в мир мёртвых. И дальше появляется вот это мистическое место — вокзал, на котором можно «в Индию Духа купить билет». Вот это то, что действительно отсылает к символистской культуре. Можно много говорить об этом. Об этом писалось, и Тименчик писал о том, что это за «Индия Духа», и Богомолов Николай Алексеевич Богомолов — — филолог и литературовед.
Составитель множества посмертных поэтических сборников, в том числе Гумилёва; исследователь русского символизма и поэзии Михаила Кузмина. Один из авторов «Большой советской энциклопедии». Но опять же по поводу последующего бытования стихотворения. Вот этот мотив вокзала, он любопытен. Вместе с этим рефреном: «Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас вагон! Вагоноуважаемый Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало Мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала Вокзай остановить? Конечно, это такая ироническая отсылка именно к гумилёвским строчкам. И интересно, что он видит этот вокзал. Но это часть странного мира, по которому он едет. И здесь можно вспомнить пассаж из «Африканской охоты», где он рассказывает, как ему приснилось, что он был казнён в Абиссинии во время одного из тамошних дворцовых переворотов.
И я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как всё это просто, хорошо и совсем не больно». Так заканчивается «Африканская охота». А перед этим Гумилёв, действительно, подробно рассказывает, как он ради забавы убивает зверей, и сам удивляется, что не чувствует от этого никаких угрызений совести.
То есть это такой переход к вине от отсутствия ощущения этой вины. Это очень интересно. Да, совершенно верно. И это место из «Африканской охоты» — оно очень интересно пересекается с «Заблудившимся трамваем». А вот дальше появляется вот этот дощатый забор, по поводу которого очень много всяких странных гипотез и идей существовало и существует. Ну, во-первых, сам дощатый забор.
Есть свидетельство Ахматовой о том, что имеется в виду улица в Царском Селе, где жила она в юности. Вот этот дощатый забор, этот переулок она в своих воспоминаниях очень красочно описала. И тогда эти строки связаны с Ахматовой. Ахматова прямо отвечает Гумилёву 40 лет спустя в «Царскосельской оде». И, если мы помним, там тоже возникает такой очень мрачный, гиньольный образ — пир мёртвых загадочный или похоронный пир. Дьявольский пир в этом переулке в не самом фешенебельном районе Царского Села.
Машенька, ты здесь жила и пела, Мне, жениху, ковёр ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Родственники Гумилёва доказывали, что адресат этих строк — Мария Кузьмина-Караваева, с которой Гумилёв общался в году и в которую якобы был влюблён. Ничего между ними не было, это было кратковременное, чисто платоническое общение, и понятно, что такого и не такого рода влюблённостей в жизни Гумилёва были многие и многие десятки.
Но что подтверждает, собственно, эту гипотезу и почему она показалась убедительной таким специалистам, как Юрий Зобнин и Михаил Эльзон? Потому что 30 декабря — это как раз день смерти Марии Кузьминой-Караваевой. Совпадение это или нет? Я думаю, что совпадение.
Я не думаю, что Гумилёв восемь лет спустя помнил точно день смерти девушки, за которой он мимолётно ухаживал в своё время. Но самое главное — что имя Машенька в рукописи несколько раз исправлено, зачёркнуто.
Там есть «Катенька». А Ольге Арбениной-Гильдебрандт, с которой как раз у Гумилёва были долгие, серьёзные и драматически окрашенные отношения, он прочитал это стихотворение 2 января года, изменив имя на «Оленька». Ну это обычная для Гумилёва вещь. Он охотно вносил какие-то изменения, перепосвящал стихи, чтобы сделать приятное очередной даме сердца. А затем оказывается, что в стихотворении «Машенька», и дальше у Арбениной-Гильдебрандт есть совершенно замечательное место, если вы помните, о том, как она начала искать эту Машеньку, которой Гумилёв посвящает стихи.
И в раздражении сказала ему: «Идите к своей Машеньке Ватсон». И это было очень смешно. Она просто увидела, что Мария Ватсон участвует в одном вечере с Гумилёвым, и решила, что это и есть лирический адресат. Окончила Смольный институт благородных девиц, была поклонницей Семёна Надсона и ухаживала за ним во время болезни.
Ватсон сделала первый полный перевод «Дон Кихота», написала биографии Данте и Шиллера. Тем не менее имя Машенька всё-таки не случайно, как мне кажется. И его появление объясняет следующая строфа, про императрицу:. Тут тоже всякие интересные вещи. Например, что это за императрица? Ахматова, например, говорила, что «напудренная коса» — это автоцензурная правка.
И тогда речь может идти о реально имевшем место общении Гумилёва с императрицей Александрой Фёдоровной и другими членами царской семьи — поскольку он лежал в Царскосельском госпитале в году, где работали сёстрами милосердия императрица и великие княжны. И он их видел, по крайней мере. Но известно, что к Александре Фёдоровне Гумилёв относился плохо.
Ну в то время по крайней мере, в году плохо относился, потому что на него, как и на очень многих, оказывали воздействие всякие вздорные слухи о царице-шпионке. Но, конечно, это не серьёзный разговор. При всём уважении к Анне Андреевне, понятно, что эта «напудренная коса» не случайна, она как-то работает.
Кто идёт с напудренной косой к императрице? Во-первых, какая императрица? Понятно, что Екатерина. И тут тоже интересный ассоциативный ряд, связанный опять же с Ахматовой. Есть воспоминания Ахматовой о том, как Гумилёв пришёл к ней, в отроческие годы ещё, на день рождения и принёс букет цветов. Оказалось, что уже шесть букетов есть. Мать Анны Андреевны позволила себе поиронизировать по этому поводу. Гумилёв ушёл и через какое-то время вернулся ещё с одним букетом, объяснив, что это «цветы императрицы».
Он их нарвал просто в садике у дворца вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Другой сюжет: в году Ахматова жила в Севастополе, и Гумилёв её навещал. Она болела свинкой, соответствующим образом выглядела. И Гумилёв сделал ей комплимент, сказал, что она похожа на Екатерину II. Если это Екатерина, то кто к ней идёт? И тут возникает в памяти и «Капитанская дочка» с Машенькой. Понятно, что это не сюжет «Капитанской дочки», но герой, героиня и Екатерина, а героиню зовут Машенька, некие взаимоотношения тройственные….
Сразу кажется, что это «Капитанская дочка». Хотя, как пишет Юрий Зобнин, в «Капитанской дочке» всё абсолютно не так — никто не умер, вовсе не Петруша ездил к Екатерине, а сама Машенька и так далее. Но опять же надо понимать, что в поэтическом тексте литературный сюжет трансформируется очень странно.
Особенно в тексте, где речь идёт о такой сдвинутой реальности. Можно сказать, о сне. Ведь мы всё это можем понимать и как описание сна. Понятно, что во сне образы, заимствованные из той же «Капитанской дочки», могут очень странно трансформироваться. И ещё один сюжет — это Александр Дмитриев-Мамонов, фаворит Екатерины, который отказался от этого статуса, потому что влюбился в одну из приближённых Екатерины.
Женился на ней. То есть эту строфу мы можем очень по-разному интерпретировать. Мне хочется тут как раз обратиться к версии Зобнина, который полагает, что речь здесь идёт о Державине и о его жене Екатерине Яковлевне, которая во время опалы Державина тяжело заболела и поддержала его в необходимости поехать и представляться императрице, чтобы опалу с себя снять.
И умерла после этого. Это интересная версия, но она сомнительна просто потому, что я очень сомневаюсь, что Гумилёв так глубоко знал биографию Державина. В державинском стихотворении «На смерть Катерины Яковлевны», на которое указывает Зобнин, буквально так и говорится:. О ты, ласточка сизокрылая! Ты возвратишься в дом мой весной; Но ты, моя супруга милая, Не увидишься век уж со мной.
Это тоже возможная интерпретация, конечно. Тем более что в одном из вариантов была «Катенька». Вот первые две строчки: «Свобода… только оттуда бьющий свет».
А вот этот «зоологический сад планет», он, конечно, совершенно удивителен. И непонятно, планеты — это звери в этом саду, или это сад, в котором живут звери с других планет. Но мы помним, что и в стихотворении «Память», которое написано в следующем году, появляется сад планет:. И тогда повеет ветер странный — И прольётся с неба страшный свет, Это Млечный Путь расцвёл нежданно Садом ослепительных планет.
То есть это постоянный образ у Гумилёва, некое вангоговское расцветание звёзд. Тут же можно и «Звёздный ужас» опять-таки вспомнить. Смотрите, «сад планет» — это одно дело, а «зоологический сад планет» — это совсем другое. А в книге «Огненный столп» стихотворение «Слонёнок» стоит прямо перед «Заблудившимся трамваем».
Это стихотворение весны года. То есть буквально несколько месяцев их разделяет. В Африке он зверей, наоборот, убивал. И для него эта охота была слиянием с животным миром, погружением в него, соперничеством с ним. То есть это мир, в котором на равных присутствуют живые и мёртвые. Что это за мир? Это не мир живых, это не мир мёртвых. Может быть, это мир после Страшного суда. Или это что-то похожее на дантовские видения. Ведь действительно очень многое связывает «Заблудившийся трамвай» с «Божественной комедией».
Начиная с того, что опять-таки это путешествие в посмертие застаёт героя посреди дороги. Он шёл, и вдруг его увезло куда-то. Но он не оказывается в зоологическом саду планет, что интересно. Он действительно, как Данте, проходит через этот мир.
Так же как он не уезжает с вокзала в «Индию Духа», так же он и не заходит в зоологический сад планет. Вот что интересно. Мне, кстати, здесь хочется процитировать довольно остроумное наблюдение Павла Спиваковского, который в своей работе замечает, что образ вагоновожатого связан с вожатым у Данте, с Вергилием. Спиваковский пишет: «Подобно тому, как вожатый у Данте исчезает перед появлением истинной путеводительницы Беатриче, вагоновожатый у Гумилёва последний раз появляется перед упоминанием Машеньки».
Это довольно любопытная идея. Это, кстати, очень важно. Машенька как Беатриче. Но Машенька никуда не ведёт, она не появляется. Она присутствует как некая тень, как некое воспоминание. И дальше герой оказывается опять в Петербурге с именем вот этой Машеньки. Служит молитву о здравии Машеньки. Оказывается в мире, где Машенька не умерла. Или, может быть, он служит молитву о здравии там оставшейся Машеньки, а панихиду всё-таки — по умершему много лет назад варианту себя.
То есть герой и Машенька меняются местами, вот что интересно. Там, откуда он отправляется в этот мир, Машенька мертва, а он жив, а в том Петербурге, куда он возвращается, Машенька жива, а он мёртв.
Но он может прийти и отслужить сам по себе панихиду. Та тень, которая встаёт вместе с человеком у входа в зоологический сад, так же может и в собор войти, получается. То есть это какое-то уже совсем странное, сюрреалистическое раздвоение, растроение мира. И, в общем, эта панихида ничему не помогает. Потому что он остаётся в этом мире, в этом Петербурге, в который он приехал, вот с этой вечной неразделённой любовью к Машеньке, о которой он, садясь в трамвай, совершенно не думал и не вспоминал.
Возможно, если панихида ничему не помогает, то «умерщвление» себя — это такая заместительная жертва, чтобы спасти Машеньку. И ни к чему это не привело. Отслужить панихиду по живому — это же известный такой мотив. В адском Петербурге, в котором он обречён вечно пребывать с памятью о Машеньке и с чувством стыда перед ней, с чувством вины перед ней.
Поэтому сюжет с Державиным всё-таки не очень удачно ложится. Потому что там никакой вины нет. Злой рок, да. А тут некий герой изменил Машеньке ради императрицы. И понятно, что это не накладывается ни на какой конкретный сюжет из биографии Гумилёва и ни на какой конкретный литературный сюжет. Это некая вольная фантазия, в которой соединяются несколько сюжетов. И, в общем, таков итог этого путешествия. Это, кстати, характерный момент для Гумилёва. Вот, например, стихотворение «Леопард», где в окончательном варианте он должен умереть в Африке, искупая свою вину перед убитым зверем, перед леопардом.
Но в черновом варианте там появляется «чёрная дева» и вина перед ней. Очень интересна идея «Индии Духа» и реинкарнации, которая у Гумилёва так или иначе в нескольких вещах возникает. И в стихотворении «Память», и в более раннем стихотворении «Прапамять», где герой тоже имеет дело с воспоминанием о неких своих прошлых жизнях, прошлых воплощениях.
Опять-таки я обращусь к Спиваковскому, который замечает, что на самом деле это глубоко антииндуистское стихотворение, потому что в индуизме реинкарнация — это зло. Наоборот, из колеса сансары необходимо освободиться. Это высшая цель человека — выйти из этого круговорота перевоплощений. А Гумилёв это воспринимает скорее в таком мистическо-греческом ключе, метемпсихоза, перехода души, продлённого существования на этом свете. Мы не умираем, а просто переходим в новые тела. То есть Индия здесь — это скорее такая декорация.
Да, Индия здесь декорация. Опять же об этом пишет Богомолов в работе про оккультизм в Серебряном веке. Он говорит, что есть какие-то общие мотивы для всей культуры Серебряного века и некоторые из них связаны с Индией.
Индия здесь символизирует некую загадочную страну духа. Интересный вопрос — про дальнейшую судьбу этого стихотворения. Потому что оно так или иначе возникает в поэзии даже подцензурной, советской. В эмиграции появляется у Набокова, который в двух стихотворениях — «Трамвай» и «Памяти Гумилёва» — буквально обращается к его мотивам. В стихотворении «Памяти Гумилёва» он пишет:. Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин. Если говорить о Набокове, то у Набокова ещё появляется в «Даре» «палач с лицом, как вымя».
То есть это прямая цитата. А среди статей, которые я прочитал, готовясь к нашему разговору, я наткнулся на стихотворение Иосифа Уткина, комсомольского поэта, под названием «По дороге домой», где буквально говорится о путешествии на трамвае и есть такие строки:.
На Староваганьковском — Русский сад… На липах под медь — броня, Над садом крикливо Лоскутья висят Московского воронья. Среди индустрии: «Вороний грай», И «Машенька», И фасад.
И вот он — Гремит гумилёвский трамвай В Зоологический сад. Но я не хочу Экзотических стран, Жирафов и чудных трав! Эпоха права: И подъёмный кран — Огромный чугунный жираф.
Но тут вопрос: когда Гумилёв становится абсолютно неупоминаемым? Даже в первой версии статьи Тименчика говорится: «автор «Заблудившегося трамвая», и Гумилёв не называется там по имени.
Это интересная тема — Гумилёв и советская поэзия. До года выходят книжки, в году Гумилёва включают в антологию Ежова и Шамурина «Антология русской поэзии начала XX века от символизма до наших дней», вышла под редакцией Ивана Ежова и Евгения Шамурина в издательстве «Новая Москва» в году.
При этом в биографической справке просто написано: «Умер в году». В году выходит «Город муз» Голлербаха Эрих Фёдорович Голлербах — — искусствовед, литературный критик, библиограф.
После революции работал в Русском музее, Госиздате, Ленинградском институте книговедения. В году его арестовали по делу Иванова-Разумника, но вскоре оправдали. Умер Голлербах во время эвакуации из блокадного Ленинграда. Вот это удивительная вещь. В том же году появляется статья Ермилова Владимир Владимирович Ермилов — — критик, литературовед.
Секретарь РАПП — Редактор журнала «Молодая гвардия» — , главред журнала «Красная новь» — , «Литературной газеты» — Маяковский упомянул Ермилова в своей предсмертной записке: «Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться». По воспоминаниям современников, Ермилов был доносчиком и клеветником. И дальше в течение нескольких лет была такая вялотекущая дискуссия между рапповцами РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей.
Возникла в году. В организации состояло около 4 тысяч человек, её генеральным секретарём был Леопольд Авербах. Одни говорили, что надо учиться поэтической технике у врагов, другие с этим спорили.
В итоге пришли к выводу, что учиться не надо. Но понятно, что все эти комсомольские поэты х годов — Светлов, Уткин, Алтаузен Джек Алтаузен настоящее имя — Яков Моисеевич Алтаузен; — — писатель, поэт, военный корреспондент. Автор поэм «Безусый энтузиаст», «Первое поколение», «Повесть о капитане и китайчонке Лане» и других. Ну а в следующем поколении Симонов — об этом и говорить нечего.
Но это были люди, которые себя ассоциировали с комсомольской или пролетарской поэзией. А были поэты, которые непосредственно учились у Гумилёва или были с ним связаны, знакомы. И вот Тихонов Николай Семёнович Тихонов — — писатель, поэт. Искусства и науки давно не украшали эту землю. Но и эти города походили на большие кишлаки. Русские путешественники их от кишлаков и не отличали. Правда, старинные каналы еще кормили население, состоявшее из узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, цыган.
В трех кишлаках жили даже арабы. Преобладали, разумеется, таджики и узбеки. Но в двадцатые годы земли начали пустеть. Поля на склонах гор зарастали сорными травами, пастбища были пустынны, ирригационные сооружения разрушены. Согласно переписи года, население долины Вахша едва достигало 11 жителей. Советская пропаганда обвиняла во всех бедах басмачей, но басмачи базировались за границей, в соседнем Афганистане, и туда же, в Афганистан, переселялись жители Южного Таджикистана.
Не просто переселялись — бежали, иногда — целыми кишлаками. Бежали от коллективизации. В году в Средней Азии появились первые колхозы и совхозы, их число росло каждый год. Баев в Средней Азии изводили так же рьяно, как в России кулаков.
Даже Павел Лукницкий, коммунист и, не исключено, чекист, рассказывает характерный случай. Бедного памирца Марона-Али почему-то записали в баи.
Это привело памирца в такой ужас, что он хотел сразу застрелиться, но передумал и написал заявление: «Как звать меня баем, когда я жил до сих пор как все бедняки, и просил горох и муку на каждом дворе, и расчески делал, и канал делал. Если меня звать баем, лучше поставить меня под стену и стрелять…» К счастью, из баев Марона-Али исключили. Таджики и узбеки воинственны, поэтому сопротивление советской власти не стихало здесь больше десяти лет.
Свою ненависть к большевикам басмачи переносили и на всех русских, при случае вырезали «урусов» поголовно, поэтому даже участники советских научных экспедиций еще в начале тридцатых обязательно вооружались винтовками и наганами, которые им нередко приходилось пускать в ход.
Разумеется, геологи, зоологи, географы в большинстве своем не отличались хорошей военной подготовкой. Лукницкий так описывает боевые качества своих товарищей: «…некоторые впервые садятся в седло. Даже заседлать коней не умеют. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади».
Одна научная экспедиция в полном составе попала к басмачам в плен. Советские ученые спаслись только тем, что назвались врачами, а людей этой профессии в Средней Азии ценили высоко. Меньше повезло ленинградским геологам, приехавшим на Памир в году и разбившим лагерь в горах Заалайского хребта. Басмачи атаковали лагерь, разграбили его, перебили всех русских, а нанятые экспедицией рабочие-киргизы то ли разбежались, то ли присоединились к басмачам.
Из всей экспедиции уцелел только один студент-практикант, который собирал образцы горных пород вдалеке от лагеря. Его просто не заметили. У советской власти были на долину Вахша большие планы. Сухие тропики Южного Таджикистана подходят для ценного длинноволокнистого хлопчатника, который необходим не столько текстильной, сколько военной промышленности.
Из него делают бездымный порох, взрывчатку, парашютную ткань. С года в долине Вахша начались эксперименты по акклиматизации ценных египетских сортов хлопка. Десять кустов хлопчатника погибли, еще семь съел осел, но семнадцать кустов выжили и принесли небольшой урожай.
Это решило судьбу долины Вахша, судьбу населения Дарваза и отрогов Гиссара, судьбу пойменных лесов нижнего Вахша и Пянджа, судьбу туранского тигра, наконец. В году начался Вахшстрой — расчистка старых и строительство новых каналов, которые должны были обеспечить водой громадные поля хлопчатника.
Это была одна из знаменитых строек первой пятилетки. Она описана в некогда известном романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Таджиков стали переселять с гор, объединять в колхозы и совхозы и заставлять вместо риса возделывать хлопок. Леса и кустарники в пойме Вахша и Пянджа свели, чтобы расширить посевные площади.
Тигры, лишившись кормовой базы, вымерли, не спас их и открытый в году заповедник Тигровая балка. Для борьбы с малярией открывали специальные малярийные станции, на одной из них и работал молодой Лев Гумилев.
Как вообще Гумилев попал в Таджикистан? Если выбор места и профиля его первой экспедиции был скорее всего случайным, то здесь дело обстоит гораздо интереснее. Он уже дважды побывал на Памире и описал свои впечатления в повести «У подножия смерти», напечатанной в году. На самом деле роль Лукницкого здесь намного значительнее. Павел Николаевич был ни много ни мало ученым секретарем Таджикской комплексной экспедиции года. Само по себе это звучит невероятно. Таджикская комплексная экспедиция была организована по решению Совнаркома и Президиума Академии наук.
Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика А. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Иванович Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попадет Гумилев, возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик, будущий президент Географического общества СССР, основатель Тропического института в Таджикистане.
Руководил экспедицией Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. В экспедиции участвовало семьсот человек в том числе 97 научных работников. Экспедиция делилась на семьдесят два отряда геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, ботанические, зоологические, паразитологические, сейсмологические, этнографические.
Для работы экспедиции по всей территории Таджикистана потребовалось организовать множество опорных баз, заготовить продовольствие для сотрудников, фураж для лошадей. В ее распоряжении были радиостанции, самолеты, автомобили. Ученым секретарем экспедиции такого уровня должен был стать по крайней мере кандидат, а лучше — доктор наук.
Тридцатилетний поэт и прозаик Павел Лукницкий, выпускник литературно-художественного отделения факультета общественных наук ЛГУ, на такую должность теоретически претендовать не мог. Правда, он был уже опытным путешественником, альпинистом, участником экспедиций по Крыму, Кавказу, Туркмении, Памиру, но ни его статус, ни квалификация все же не соответствовали должности ученого секретаря.
Да и его участие в совсем «непрофильных» для поэта геологических экспедициях на Памир , заставляет задуматься. Остается предположить, что Павел Николаевич, помимо обязанностей ученого секретаря, выполнял какую-то другую, более важную в глазах руководства работу. Именно Лукницкий «пристроил» Гумилева в таджикскую экспедицию. В апреле го Ахматова писала Харджиеву: «От Левы нет вестей: он не ответил никому из нас — не знаю, что думать». Значит, Гумилева уже не было в Ленинграде достаточно долго, вероятно — несколько недель.
Потом, возможно, известия о нем появлялись и вновь исчезали, потому что в первых числах февраля го Ахматова вновь будет жаловаться Харджиеву, что «от Левы нет вестей». Значит, вернулся он только в феврале го, но не в первых числах. Если Гумилев и в самом деле провел в Таджикистане одиннадцать месяцев, то началом его экспедиции следует считать март го. Путь для исследователей Средней Азии тогда чаще всего начинался ташкентским поездом. От Ташкента уже по местной железной дороге добирались до Андижана и далее до Оша.
Здесь железная дорога заканчивалась. Путешественники пересаживались на автомобили, на лошадей или на верблюдов, которые по-прежнему оставались основным транспортным средством. В те времена по Таджикистану еще ходили караваны в — , а то и в верблюдов. Ранняя весна — лучшее время года в Средней Азии. Цветут акация, абрикосовое дерево и миндаль.
Прохладная вода арыков омывает корни огромных тополей, вдалеке видны очертания снежных гор. Итак, до Оша Лукницкий и Гумилев ехали вместе. Более того, Лукницкий скорее всего уговаривал Льва поехать с ним на Памир. Топонимика нередко отражает историю.
Труднодоступное высокогорье Памира пестрит русскими и советскими названиями. Ни таджики, ни киргизы, ни даже памирские народы шугнанцы, ишкашимцы, горанцы, рушанцы не проникали туда. Русские путешественники первыми нанесли на карты хребты Петра Первого и Академии наук, открыли высочайшие в стране горы и самые длинные неполярные ледники: пик Ленина, пик Сталина, ледник Федченко. В начале тридцатых открытия случались там каждый год.
Павел Николаевич по-своему служил науке. Опытный путешественник, альпинист, он в году откроет знаменитый Трехглавый пик будущий пик Маяковского. Но горы Гумилева никогда не привлекали, поэтому дороги Льва и его покровителя разошлись. Лукницкий поехал на Памир, а Гумилев через город Сталинабад бывший кишлак Дюшамбе отправился на юго-запад. В автомобиле? Вряд ли простому лаборанту оказали такую честь, вероятнее — на верблюде.
Много лет спустя, в лекции об этногенезе арабов, Гумилев будет рассказывать о влиянии аллюров верблюда на развитие арабской поэзии: «Когда арабы ездили на верблюдах, нужно было бормотать ритмично, чтобы не растрясло. Для столь натуралистического описания необходим личный опыт, до таджикской экспедиции его было приобрести негде, но и после нее Гумилев практически не бывал в местах, где встречаются верблюды.
Правда, он сидел в лагерях Казахстана, но вряд ли лагерное начальство позволяло зэкам разъезжать на верблюдах. На Вахш Гумилев попал не сразу. Некоторое время он провел в Гиссарской долине, где ему и пришлось послужить науке лаборантом-гельминтологом.
Гумилев ловил и резал лягушек в долине небольшой речки Душанбе-Дарья, которую русские ласково называли Душанбинкой. Работа Гумилеву не понравилась настолько, что он вскоре поссорился с начальником гельминтологического отряда Штромом, который пригрозил дать Льву такую характеристику, что его не только «не возьмут никуда работать, но даже не поместят ни в одну приличную тюрьму» [17].
Мы не знаем, как долго Гумилев резал лягушек. В любом случае нам интереснее всего результат. Гумилев, всегда любивший идти наперекор обстоятельствам, то ли из экспедиции бежал, а потому и был отчислен, то ли сначала был отчислен за нарушение трудовой дисциплины и неисполнение возложенных на него обязанностей, а потом ушел подальше от бывшего места работы.
Гумилев покидать Таджикистан и не собирался, он лишь каким-то образом вероятно, присоединившись к одному из караванов перебрался в долину Вахша. Но в долине Вахша тогда был только один совхоз — «Вахш», а из интервью Гумилева известно, что он устроился малярийным разведчиком в совхоз Дангара.
Название Дангара носит и прилегающий к селению район. Дангара расположена на полпути от долины Вахша к Дарвазу, предгорьям Памира. Каждый год на зимовку в Дангару пригоняли скот из Дарваза и высокогорного Каратегина. Занимались и земледелием. А в году там уже размещался большой и богатый Дангаринский совхоз, где и работал Гумилев. Дангаринский совхоз относился к числу образцово-показательных. Он располагал несколькими тысячами гектаров плодородных земель, большим тракторным парком и немалыми средствами.
В совхозе трудились более шестисот русских, что, впрочем, не было редкостью для Южного Таджикистана. В году в тех краях было много русских, украинцев, встречались даже осетины.
Все это были беженцы, спасавшиеся от голодной смерти. А в Таджикистане всем находились работа и кусок хлеба. Советская власть вкладывала в развитие отсталой республики огромные средства, рабочих рук не хватало, а местное ОГПУ не могло уследить даже за местной «контрой». Таджикистан, как редиска, был красным лишь снаружи.
Дьяконов описывает, как один русский студент, прибывший в Курган-Тюбе на практику, не застал заведующего районо, потому что тот ушел в мечеть молиться. Наемным работникам платили, по советским меркам, неплохо. Жилось им тяжело, но по крайней мере здесь не было голода. Тем не менее русские все чаще вслед за таджиками уходили в Афганистан. Более того, если верить свидетельству Александра Рудольфовича Трушновича, бывшего корниловца и будущего власовца, русские встречались даже среди басмачей.
Намного опаснее ОГПУ была малярия. Лечили ее плохо, лекарств не хватало. Дефицитным хинином пользовали только самых ценных, с точки зрения советской власти, людей: рабочих, военных и хлопкоробов. Лекарство принимали в присутствии врача, чтобы больной не мог унести его домой и отдать больной жене или ребенку. На процветающем черном рынке хинин стоил бешеных денег.
Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и все население района» [18].
Борьба против заразной болезни не была напрасной. Правда, малярию в Таджикистане победит не «парижская зелень» очень токсичный порошок, не растворяющийся в воде , а рыбка гамбузия, которая будет так эффективно уничтожать личинок малярийного комара, что уже в пятидесятые годы болезнь, прежде распространенная повсеместно, станет редкостью. Возродится малярия уже в независимом Таджикистане. Судя по оговорке, переболел малярией и сам Гумилев.
Болезнь, скучная и опасная работа да и сама жизнь в чужой стране, в непривычном климате, среди чужих людей кого угодно на долгие годы оттолкнули бы от Востока. Но Гумилеву жизнь в Южном Таджикистане очень понравилась. Позднее он будет завидовать Анне Дашковой, которая попала в Таджикистан год спустя: «Счастливая! А моя дорога проходит по крымским сопкам, похожим на бородавки и на которых скучно, как на уроке политграмоты» [19]. Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма! Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала тридцатых, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой, наконец.

Но Гумилеву понравились и страна, и, что самое главное, народ. Гумилев выучил таджикский не по учебникам их у него не было , а в непосредственном общении с дехканами. Само по себе это уже говорит о многом. Таджики, за редким исключением, не любили русских, которые заставляли их переселяться с гор на равнину, уничтожали рисовые поля, чтобы освободить место под хлопок. Таджики уважали русских врачей, но ведь Гумилев не был медиком.
Чтобы учить язык, надо много общаться с местным населением, что тогда было для русского небезопасно. Но Льву в Дангаре, видимо, жилось легко и приятно. Эта комплиментарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплиментарность к таджикам, узбекам, киргизам — да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплиментарность всегда взаимна.
Там, на берегах Вахша, отчасти определятся и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам, зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть Гумилев, именно таджикский новоперсидский он освоит лучше всего. Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. Лишь бы только стоял дом» [20]. В году на одного москвича приходилось в среднем 4,15 квадратного метра жилой площади, включая и малопригодную для жизни: сырые подвалы, бараки, перенаселенные коммуналки.
Даже известные писатели, за редким исключением, находились в этих стесненных условиях. Аркадий Гайдар, книги которого выходили огромными тиражами, жил со своей семьей из пяти человек в одной комнате. А ведь писателю на так называемой жилплощади приходилось еще и работать. Пока это постановление не давало результатов, писатели вынуждены были искать «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», полагаясь только на собственную смекалку.
Платонов убрал ванну из ванной комнаты и сделал кабинет. Гор, садясь за письменный стол, брал палку в левую руку и отгонял мешавших ему детей, а правой пытался писать. Можно понять радость Булгакова: в феврале года ему удалось купить квартиру в одном из первых в Москве кооперативных домов.
На полгода раньше в том же доме Нащокинский переулок, 5, квартира 26 поселились Мандельштамы, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. После долгих скитаний у Мандельштамов появилась собственная квартира в Москве. Мебели почти не было. Пружинный матрац, покрытый пледом, заменял тахту. На самодельных некрашеных полках Осип Эмильевич разместил книги: Петрарка и Данте на итальянском, томик Батюшкова, много раз перечитанный, без обложки, «Жемчуга» Николая Гумилева….
Половина гостей — стукачи? Возможно ли это? Скорее всего, Надежда Яковлевна сгущает краски и привносит в свои воспоминания более позднюю оценку событий. Скажем осторожнее: по преимуществу свои. Гостили отец и брат Осипа Эмильевича. Приехала из Киева мать Надежды Яковлевны. Некоторое время жил вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст.
Приезжала из Ленинграда Ахматова. Ахматова очень любила разговаривать с Мандельштамом: «О стихах говорил ослепительно, пристрастно, и иногда бывал чудовищно несправедлив. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырвавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. Повышенное интеллектуальное напряжение этого дома молодого Льва Гумилева не только не смущало, оно ему было необходимо.
Дети известных людей всегда вызывают повышенный интерес, который нередко сменяется разочарованием. С молодым Львом Гумилевым было иначе. Он сравнение выдерживал. Надежда Мандельштам: «Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем бродильную силу и понимали, что он обречен». Эмма Герштейн: «Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями.
Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не только папы и мамы». Осип Эмильевич и Лев подружились, несмотря на разницу лет и характеров.
Мандельштам всегда тянулся к молодым, хотел, чтобы они знали его стихи, в том числе и опасные стихи о Сталине: «Это комсомольцы будут петь на улицах! Конечно, других газет, кроме советских, не было.
Надежда Яковлевна писала для газеты «За коммунистическое просвещение». Эмма Герштейн — для «Крестьянской газеты». Сорокалетний Мандельштам выбрал молодежную газету. С Левой у Мандельштама сложились совершенно особенные отношения. В году Мандельштам из Крыма писал Ахматовой: «Знайте, я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется». В Гумилеве-младшем Мандельштам видел продолжение Николая Степановича.
Называл Леву «мой дорогой мальчик». Они много времени проводили вместе и даже влюбились в одну женщину, двадцатипятилетнюю Марию Петровых: «Как это интересно! У меня было такое с Колей», — восклицал Мандельштам. Холодной и голодной зимой года Николай Гумилев и Осип Мандельштам добивались благосклонности актрисы Александринского театра, красавицы Ольги Арбениной-Гильдебрандт. Арбенина оставила воспоминания, очень непосредственные, эмоциональные, местами похожие на дневник гимназистки.
Герой ее воспоминаний, конечно, Гумилев. Прежде всего герой, воин и путешественник, а потом уже поэт. Зимой го Арбенина не раз вспомнит их незабываемую встречу года: «Мне так хотелось того, прошлого! И военные шпоры, и Георгий на груди» [25]. В турнире поэтов за сердце прекрасной дамы победил Мандельштам. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву?
Дальнейшее сложилось по неведомым человеку законам судьбы: Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели, Мандельштам с Надеждой Хазиной, ставшей его женой, уехал в Москву. Ольга Арбенина вышла замуж за Юрия Юркуна. Лев тоже был влюблен в Марию Петровых бурно и безответно. В этом «безответно» не было привкуса горечи. Январские дни го были для Льва если не счастливыми, то вполне беззаботными. Танцевали модные тогда фокстроты. Было весело. Если Мандельштаму казалось, что истории его соперничества с Гумилевыми, старшим и младшим, похожи, значит, так он чувствовал.
Со стороны кажется иначе.

Все другое: время, место действия, характеры и возраст героев. Похож только финал. Появился третий, и Мария Петровых вышла замуж за него, Виталия Головачева. Лев насмешливо называл Виталия «интеллигентом в пенсне». Соперничество не поссорило друзей.
Осип Эмильевич и Лев по-прежнему много времени проводили вместе. Между тем город менялся. Шла реконструкция Москвы. Она была неизбежна, но часто велась варварскими методами, к тому же совпала с гонениями на церковь.
В м взорвали храм Христа Спасителя, «чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят» [26]. Уходил старомосковский быт. Лев к этим переменам отнесся равнодушно: «Мало ли в России пустырей».
Бывая в Москве чаще всего проездом из экспедиций, Гумилев не успел полюбить ее. Москва встречала и провожала его грязными, многолюдными вокзалами, переполненными трамваями.
Троллейбусы появились в Москве в м, метро откроют в м. В двадцатые — тридцатые годы основным средством передвижения в Москве оставался трамвай. А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают? Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай.
Тут какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки…» [27]. В трамвае сталкивались москвичи и приезжие, рабочие и совслужащие, студенты и пенсионеры.
Здесь можно было услышать новости, запомнить свежий анекдот. Страх еще не сковал столицу, вольные двадцатые только-только миновали, и трамвай служил чем-то вроде московского Гайд-парка. Мандельштама и Гумилева влекло в гущу людей, они охотно ввязывались в трамвайные склоки, а потом с удовольствием рассказывали о своих победах.
Оба тяжело переживали невозможность осуществить свое предназначение, просто высказаться свободно. Словесные трамвайные баталии были для них выходом творческой энергии, пусть даже иллюзорным. Читал ли Лев свои стихи Мандельштаму? Оказывается, да. Как-то Эмма Герштейн холодно отозвалась о новом стихотворении Гумилева, а «через несколько дней Надя Н. Еще больше в это время в читателе, слушателе нуждался сам Мандельштам.
Прочитанные однажды Мандельштамом стихи о Сталине сыграют роковую роль в жизни Гумилева. Но это случится позднее. Осенью года Гумилев искал и нашел в Москве литературную работу: «Сейчас я процветаю в столице и занимаюсь литературой, т. По правде говоря, поэты эти о поэзии и представления не имеют, и я скольжу между Сциллой и Харибдой, то страшась отдалиться от оригинала, то ужасаясь безграмотности гениев Азии», — писал он Анне Дашковой.
Поездка в Таджикистан и увлечение восточной поэзией определили ориентальный стиль любовных писем: «Анжелика — солнце очей моих», «Светлая радость Анжелика», — обращался он к Дашковой. В это же время у Мандельштамов возникла идея с помощью Эммы Герштейн она служила тогда делопроизводителем в Центральном бюро научных работников при ВЦСПС помочь Льву вступить в профсоюз, что укрепило бы его социальное положение.
Несмотря на старания Эммы, эту затею тогда осуществить не удалось. Эмма Герштейн заметила очень характерное, может быть — определяющее: независимость молодого Гумилева. И еще: роль просителя — не его роль. Зимой Лев и Эмма встретились в Нащокинском у Мандельштамов, не предполагая, каким длинным окажется их путь они были знакомы почти шестьдесят лет.
За долгие годы случалось всякое, были «длительные периоды полного отчуждения, даже вражды». Но незадолго до смерти Лев Николаевич оставил автограф на своей знаменитой книге «Этногенез и биосфера Земли»: «Милой Эмме на память от Левы».
Эмма Григорьевна переживет Гумилева на десять лет, оставит мемуары и уйдет из жизни уже в двадцать первом веке. Осенью го Эмма была пышноволосой тридцатилетней женщиной с печальным взглядом. В двадцать один год молодой человек не задумывается, как изменится его избранница лет через пятнадцать.
Есть чувства интимные, непостижимые для постороннего. Но были вполне очевидные мотивы для сближения. Эмма «потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места», и очень хорошо его понимает. Домашняя, образованная, деликатная, она не сразу нашла свое место в грубой советской жизни, долго оставалась безработной. Делопроизводитель в тресте «Утильсырье» — незавидная должность для молодой женщины с университетским дипломом, но и она Эмме не досталась.
Ее оттеснили активные комсомолки. Эмма вспоминала, как старалась избежать обязательного участия в ноябрьских демонстрациях. Льва тоже трудно представить в колонне комсомольцев. Оба не умели и не хотели идти в общем строю, не вписывались в эпоху, чувствовали враждебность окружающего мира. И это сближало. Лев стал приходить к Эмме в гости на замоскворецкую улицу Щипок, где она жила в служебной квартире своего отца, известного хирурга, члена консультации профессоров при Кремлевской больнице.
Казенная квартира помещалась «в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом». Постепенно особняк превращался в огромную коммуналку. Устроили общежитие для медсестер и санитаров. К ним потянулись родственники из деревень и заселили подвал и все закоулки здания. Но и после уплотнения Эмме удалось сохранить отдельную комнату. Лев после экспедиций и чужого для него дома Пуниных, может быть, впервые оценил роскошь уединения.
Комната была скромной, но очень уютной. Окно с белой занавеской выходило в сад. Небольшая кафельная печь. В ней Эмма будет сжигать по требованию Ахматовой письма Льва и листочки с его стихами. Это случится после ареста Гумилева в году. А пока только февраль го. На столе рукописи из литературной консультации Госиздата.
Эмма брала их на отзыв для заработка. Однажды предложила подработать Льву, но он рукописи потерял. Лев Николаевич бывал необязателен во всем, что не касалось науки. Эмма «с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтила его память». С ней Лев мог говорить о своем неизбывном горе и о своей обиде на мать.
Время не излечило, не ослабило обиды. Даже в старости Лев Николаевич с горечью говорил о матери, что «в ее жизни никогда не было, кроме Гумилева, мужчины, бретера, героя». А тогда, в м, у него с Эммой были долгие разговоры об отце и, наверное, очень откровенные: «Он ушел от меня только утром. Это было воскресным мартовским утром, а днем раньше Гумилев показал Эмме повестку в ГПУ, которую ему переслали из Ленинграда. Лев уже успел с этой повесткой сходить на Лубянку и попросить отправить его в Ленинград, денег на билет у него не было.
С Лубянки его, разумеется, прогнали. Вряд ли Эмма удивилась этому рассказу. Она уже не раз наблюдала его вызывающее поведение. Ему следовало быть осторожным, не ввязываться в конфликты, а Лубянку и вовсе обходить стороной. Это был первый из четырех арестов Гумилева, по видимости — случайный. Гумилева арестовали на квартире востоковеда Василия Александровича Эбермана.
Гумилев тогда решил заняться переводами с арабского. Переводил, разумеется, по подстрочнику, языка он не знал, а Василий Александрович был не только филологом-арабистом, учеником Крачковского, знатоком арабской, персидской и русской литературы, но и поэтом.
Эберман сочинял стихи о предмете своих научных исследований, арабском поэте VIII века. Она любовь дарит ему отныне… [28]. Чекисты, собственно говоря, пришли именно за Эберманом, а заодно уж взяли и его гостя Гумилева, человека во всех отношениях подозрительного.
Всякому биографу Гумилева этот арест не может не показаться знаком судьбы, черной меткой, репетицией будущих несчастий, хотя в тот раз все обошлось — Гумилева продержали в тюрьме девять дней, но дела не завели и даже не допросили.
Эберману пришлось хуже. В жизни поэта и арабиста это был уже второй арест. Впервые его взяли в июне го и отправили в ссылку, затем освободили и позволили даже вернуться к преподаванию. Теперь же Эбермана отправят в лагерь. Гумилева пока оставят в покое. Мартовская тревога окажется ложной — в ГПУ ему только вернули вещи, изъятые при аресте.
В апреле го он писал Эмме: «…погода плохая, водка не пьяная… Если пожелаете, я могу скоро вернуться… мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет».
Так они с Эммой начали осваивать язык иносказаний, столь необходимый для той эпохи. В июне года сбылась мечта Гумилева. Его допустили к вступительным экзаменам на только что восстановленный исторический факультет Ленинградского университета. Само по себе это было большой удачей. Несколько лет работы в экспедициях помогли Гумилеву хоть немного исправить свою анкету. В июне года Пунин с Ирочкой и Анной Евгеньевной уехали в Сочи и оставили Ахматовой паек, но у нее и Левы не было денег, чтобы этот паек выкупить.
Ахматова и Гумилев голодали, не на что было купить и папиросы. У Льва от голода кружилась голова, поэтому один из экзаменов он даже сдал на тройку, но большого конкурса на истфак еще не было, поэтому тройка не помешала Гумилеву наконец-то стать студентом-историком.
С первых же лет советской власти историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета начали реформировать. Сначала превратили в историческое отделение громадного факультета общественных наук.
Когда выяснилось, что таким монстром, как новый факультет, управлять нельзя, его разделили. В году историки оказались в составе ямфака факультета языкознания и истории материальной культуры , но в году ликвидировали и ямфак, а на его руинах построили Ленинградский историко-лингвистический институт ЛИЛИ , который уже через год стал Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики ЛИФЛИ.
Переименования не были формальностью. Реформы постепенно добивали старое университетское образование. Место неблагонадежных профессоров старой школы занимала красная профессура.
В году отменили лекции, а не сумевших перестроиться профессоров стали увольнять «за превращение занятий в лекции». Директор института как-то обратил внимание на два гипсовых бюста в вестибюле и спросил своего заместителя:. Бюсты греческих философов разбили. Если этот эпизод смахивает на анекдот, то в реальность другого нельзя не поверить.
Директор института Горловский читал курс истории Нового времени. Объясняя студентам выражение «богат как Крез», Горловский заметил, что оно происходит от «названия французской финансово-промышленной фирмы Шнейдер-Крезо». Отечественную историю читал какой-то «выдвиженец».
Он часто ссылался на Энгельса, но называл его на свой манер — «Енгельс», а слово «индивидуализация» произносил как «индульзация». Студенты посвятили ему эпиграмму, которая начиналась так:. Вместо учебника предлагалась «Русская история в самом сжатом очерке» историка-большевика М.
Многие студенты были под стать таким преподавателям. Один рабфаковец вместо карты Европы принес карту Африки, а изумленному преподавателю объяснил: «А я взял, которая была почище» [32]. Этот рабфаковец был лингвистом, а историки и лингвисты, если верить Дьяконову, «по умственному развитию» стояли гораздо выше философов. При этом студенты не всегда стремились много прочитать, узнать, стать образованными людьми. В те годы поощрялась «ударная» учеба с досрочным в три года окончанием курса.
К году этих безобразий стало заметно меньше. Самые дремучие выдвиженцы лишились работы, на их места вернули опальных историков и филологов, получивших образование и ученую степень еще в царской России. Историческое отделение ЛИФЛИ продолжало существовать параллельно с университетским истфаком до года.
Истфак был консервативнее и строже ЛИФЛИ, уровень преподавания здесь приближался к старому, дореволюционному. Специализация начиналась не с первого курса, сперва закладывались фундаментальные знания. Свой первый экзамен в зимнюю сессию года Гумилев сдавал будущему директору Института этнографии Исааку Натановичу Винникову.
Винников читал историю доклассового общества и справедливо считался одним из самых блестящих преподавателей на факультете. Находились студенты, которые слушали его курс дважды, — Винников никогда не повторялся. Винников был не только этнографом, но и востоковедом-семитологом. Он читал арамейские надписи, изучал Талмуд. Гебраистике учился у Коковцева, арабистике — у Крачковского.
Игнатий Юлианович Крачковский покровительствовал Винникову до конца своих дней, и заступничество великого ученого очень пригодится Винникову в годы борьбы с космополитизмом. Исаак Натанович напоминал карикатуру из антисемитского журнала — маленький, с огромными ушами, он к тому же «говорил с ужасающим акцентом, свойственным анекдотам из еврейской жизни», вспоминал Игорь Дьяконов, оставивший нам колоритное описание винниковских лекций:.
Еще интереснее он был в разговоре; он обладал бездной познаний и был знатоком живой истории науки; ужасно жаль, что его не записывали на магнитофонную ленту. Тайлор, что он выдвинул? Он выдвинул понятие пэрэжитка. Вы знаете, что такое пэрэжиток? Тут он, стоя на эстраде актового зала, поворачивался спиной к слушателям и начинал медленно задирать край пиджака к пояснице.
Так у фрака фалды, а на этом месте пуговицы. Почему на этом месте пуговицы? Вы думаете — ув чем сэкрэт, пришили тут пуговицы! Ув чем сэкрэт? Сэкрэт нэ ув этом. Джентльмены охотились на лисиц верхом, так фалды им мешали, они их туда пристегивали.
Вот это есть пэрэжиток» [33]. Историю Древнего Востока читал Василий Васильевич Струве,высокий,крупный, чрезмерно полный человек с рыжими усиками, из-за большой, рано поседевшей головы казавшийся несколько старше своих лет, в м ему было только сорок пять. Струве до революции получил основательное образование, историю семитских народов изучал у Коковцева, а египтологию — у Тураева, затем стажировался в Берлине.
Воспитанный в дворянской семье, он попытался приспособиться к новым условиям, и не без успеха. С го Струве работал в Эрмитаже, возглавлял там отдел Египта.
В начале тридцатых Струве сделал блестящую карьеру.

Он не только ссылался в лекциях на Маркса и Энгельса, вообще-то слабо знавших историю Египта и Месопотамии, но и взялся развивать марксистское востоковедение. В году в Государственной академии истории материальной культуры ГАИМК Струве выступил с четырехчасовым докладом «Возникновение, развитие и упадок рабовладельческого общества на Древнем Востоке».
Доклад предопределил развитие советской науки не только востоковедческой на много лет вперед. Струве утверждал, будто на Древнем Востоке сложился рабовладельческий строй, подобный тому, что известен по истории Греции и Рима. Это было не так легко доказать, ведь в Египте времен Древнего царства и в государствах Шумера рабов было мало, а население состояло в основном из крестьян-общинников, по меркам Древнего Востока — «свободных».
Вопреки всеобщему убеждению, египетские пирамиды, например, возводили не рабы, а свободные, отрабатывавшие государственную трудовую повинность. Но доклад Струве был основан на железной логике исторического материализма, что несколько лет спустя оценит И. Сталин в своем «Кратком курсе истории ВКП б ».
Сталин построит свою схему из пяти общественно-экономических формаций первобытно-общинная — рабовладельческая — феодальная — капиталистическая — коммунистическая именно на концепции Струве, на Струве, впрочем, не ссылаясь. Уже в году оппоненты критиковали Струве не столько за историческую концепцию, сколько за неточности его переводов, но после выхода в м «Краткого курса» надолго замолчали последние несогласные.
В году Струве станет академиком, в м возглавит академический Институт этнографии, а с го — Институт востоковедения. Читал он скучно, запинаясь, усыпая речь бесчисленными словами-паразитами: «к сожалению», «знаете ли», «вот видите». Зато Струве был человеком добрым, внимательным к студентам и, несмотря на карьеризм, не подлым. Когда арестуют профессора Ковалева, заведующего кафедрой истории Древнего мира, и всех преподавателей заставят «отмежеваться» от «вредителя» и «врага народа», Струве публично откажется это сделать.
Позднее он будет хлопотать и за Гумилева. Античную историю читал Сергей Иванович Ковалев. Он считался очень хорошим лектором, а по части политической надежности до своего ареста превосходил даже Струве. Ковалев не только заведовал кафедрой в университете, но и со времен Гражданской войны преподавал в Военно-политической академии, его анкету украшала служба в Красной армии и «революционная деятельность», из-за которой он был некогда отчислен из гимназии.
Правда, в чем эта революционность заключалась, неизвестно. Ковалев смотрел на историю Греции и Рима с марксистской точки зрения, а потому искал в ней только рабовладельческие черты. Трудно сказать, был ли он искренним, когда относил роскошную минойскую цивилизацию к первобытности, восстание Спартака считал прогрессивным, а падение Римской империи объяснял революцией рабов.
Вряд ли — он слишком хорошо знал историю, чтобы верить в эту ахинею. Но логика формационного подхода диктовала свои условия, а Ковалев был недостаточно гибок, чтобы не грешить против истины и оставаться правоверным марксистом, отсюда и недостатки его курса. В схематизме его упрекали даже историки-марксисты. Марксизм не предусматривал в истории длительных упадков культуры, отбрасывавших общество на столетия назад, а древнейшая история Крита и Микен в эту концепцию никак не вписывалась.
Переход между формациями должен был происходить через революцию, поэтому из пальца высосали целую «революцию рабов», будто бы разрушившую Рим. И все-таки лекции Ковалева студенты любили. Некрасивый, длинноносый профессор, с лицом в каких-то красных пятнах, умел заинтересовать студентов.
История — наука частного и конкретного, ее прелесть в деталях, в живых подробностях минувших эпох, которые не всегда можно заключить в созданные социологами схемы. Ковалев же рассказывал больше не о формациях, но о мудрости Сципиона, красноречии Цицерона, великодушии Цезаря, предусмотрительности Августа. Сын могилевского врача, только в восемнадцать лет перебравшийся в Петербург, Лурье стал учеником известного антиковеда, филолога-классика, специалиста по греческой словесности Сергея Александровича Жебелёва.
В году Лурье издал сначала в Петрограде, а затем в Берлине чрезвычайно интересную и оригинальную книгу — «Антисемитизм в древнем мире». Ученые монографию Лурье не признали, Элиас Бикерман, филолог-классик европейского уровня, написал на нее разгромную рецензию, но книга Лурье пережила свое время и в наши дни не утратила значения, тем более что ни одного серьезного исследования на эту тему в России с тех пор так и не появилось.
В тридцатые Лурье вел семинары, занимался греческой эпиграфикой, историей науки, издавал и комментировал Ксенофонта и Плутарха и не без оснований считался замечательным специалистом по древнегреческим источникам. Любопытно, что сын Соломона Лурье, Яков Соломонович, станет позднее одним из самых строгих критиков Гумилева. Работал на кафедре и академик Жебелёв. Маленький и седовласый, он не обращал внимания на изменившийся мир, годы Гражданской войны бесстрашно называл «лихолетьем» и хвалил запрещенного эмигранта Кондакова.
В блокаду Жебелёв умрет от голода. Курс истории Средних веков читал Осип Львович Вайнштейн, он же заведовал кафедрой. Вообще-то Вайнштейн начинал как историк Парижской коммуны, жил и работал в Одессе, а медиевистикой занялся лишь незадолго до своего назначения.
Надо сказать, что изучение и преподавание истории в Одессе, равно как и в других украинских университетах Киевском, Харьковском, Днепропетровском , находилось в столь плачевном состоянии, что в феврале года Наркомпрос Украины обратится к руководству ЛГУ с просьбой поделиться опытом, прислать учебные планы исторического факультета, программы и т. Можно представить чувства старых профессоров, когда к ним прибыл такой вот одесский «варяг».
Уровень ленинградских медиевистов был несравнимо выше. В университете еще преподавала Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, первая женщина — магистр и доктор истории, до революции профессор Высших женских Бестужевских курсов. Она занималась латинской средневековой палеографией, историей религиозных учений например, разбирала рукопись Иоахима Флорского. Оба они не считались людьми вполне советскими. Гревс хорошо читал лекции, еще лучше вел семинары, но он не был марксистом, а последние тридцать лет жизни занимался в основном средневековой культурой, то есть культурой религиозной, христианской.
Нечего и говорить, что такой человек не должен был руководить кафедрой. В отличие от Струве, Вайнштейн не был щепетилен.
В октябре года на заседании кафедры, проходившем под председательством Вайнштейна, разбирали «дело» профессора В. Бенешевича, который совершил ужасное преступление: прокомментировал и опубликовал в фашистской Германии «Синагогу Божественных и Священных канонов» — сборник православного церковного права, составленный в VI веке византийским автором Иоанном Схоластиком.
За Бенешевича попытался вступиться только Гревс, но «преступника» все равно осудили и вскоре уволили из университета за «антисоветское поведение», «несовместимое с работой среди советской молодежи». Вскоре опальный профессор будет арестован и расстрелян.
Греков — фигура в истории отечественной науки важнейшая. В апреле все того же года, все в том же ГАИМКе, тогда главной площадке для дискуссий историков, Греков прочитал свой доклад «Рабство и феодализм в Древней Руси», где сообщал, будто в Киевской Руси утвердилась феодальная формация.
Такой взгляд на историю Руси русским историкам XIX столетия показался бы страшной ересью. Древняя Русь столь разительно отличалась от средневековой Европы, что до начала XX века, когда появились работы Павлова-Сильванского, феодализма на Руси вообще никто и не искал. Да и в XX веке до середины тридцатых годов историки, даже такие, как фанатик-коммунист Михаил Николаевич Покровский, говорили в лучшем случае об элементах феодализма или о «феодализации», но не о настоящем феодализме.
Неудивительно, что доклад встретили дружной критикой, так что Греков, человек резкий и убежденный в собственной правоте, вынужден был признать частичную правоту оппонентов. Но вскоре концепцию Грекова одобрили Сталин и Жданов. В м Греков стал членом-корреспондентом Академии наук, а в м уже академиком, в м — директором академического Института истории. С каждым годом у него становилось все меньше противников и все больше соратников, к последним примкнул и Мавродин, специалист по истории древнерусской государственности и этнической истории русского народа, будущий многолетний декан исторического факультета.
Мавродин сыграет в судьбе Гумилева замечательную роль, но это будет много лет спустя, а тогда, в середине тридцатых, он просто запомнил Гумилева как способного, талантливого студента. Что до учения о феодализме на Руси, то к концу тридцатых оно превратилось в догмат, который не подвергался сомнению вплоть до выхода в году монографии Игоря Фроянова «Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории».
В середине — второй половине тридцатых годов на кафедре истории СССР работал Михаил Дмитриевич Приселков, недавно вернувшийся из лагеря. Приселков читал факультативный курс истории русского летописания. К сожалению, Гумилева этот курс, видимо, не заинтересовал, иначе он мог бы многому научиться у лучшего тогда специалиста по древнерусским летописям. Быть может, учеба у Приселкова помогла бы Гумилеву избежать потом многих ошибок. Но Гумилева больше занимали Центральная и Восточная Азия, а потому он избрал другие спецкурсы и других учителей.
Факультативный курс истории Китая читал Николай Васильевич Кюнер, востоковед дореволюционной школы. Кюнер с золотой медалью окончил факультет восточных языков, несколько лет стажировался в Японии, Китае, Корее, знал шестнадцать языков, включая тибетский, корейский, монгольский, китайский, японский, санскрит. Его магистерской диссертацией стала четырехтомная монография «Описание Тибета». Кюнер отличался от большинства востоковедов широтой научных интересов.
Кюнер составлял словари географических названий Китая, Японии, Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, Кореи, Монголии, Якутии. Кюнер не ограничивался древней и средневековой историей, но изучал, например, современный ему Китай. В двадцатые его сочинения о Китае выходили ежегодно, их венцом стали «Очерки новейшей политической истории Китая», изданные в м.
Впрочем, слишком широкий научный кругозор Кюнера имел и обратную сторону. Профессионализм Кюнера некоторые синологи ставили под сомнение. Всеволод Сергеевич Колоколов, востоковед и переводчик, много лет преподававший в Военной академии имени Фрунзе, утверждал: «Кюнер мало знал китайский, ссылаться на него нельзя. Из уважения к нему мы обходим молчанием его ошибки».
Кюнер стал профессором ЛГУ в году. С года основным местом работы Кюнера был Институт этнографии Академии наук, но он продолжал читать в ЛГУ несколько курсов, в основном факультативных. Кюнер был хорошим лектором, вел семинары, к тому же он охотно помогал студентам, заинтересовавшимся каким-либо из его многочисленных курсов, раздавал им свои переводы [34]. Но более всего в Кюнере Гумилева должен был привлечь интерес к географии и этнографии Центральной и Восточной Азии. Большая часть его курсов была так или иначе связана именно с этими науками.
Названия его последних монографий говорят сами за себя: «Корейцы», «Японцы», «Тибетцы», «Маньчжуры», «Народы острова Тайвань». Такой убежденный сторонник географического детерминизма, как Гумилев, мог многое у Кюнера почерпнуть.
Гумилев называл Кюнера своим наставником и учителем. Ахматова в письме к Ворошилову от 10 ноября года ссылается на Кюнера и Артамонова как на специалистов, которые могут подтвердить ценность научной деятельности ее сына. Более того, Кюнер помогал Гумилеву в заключении, посылал ему в лагерь книги, среди них были трехтомные «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» иеромонаха Иоакинфа Н.
Для Гумилева, не знавшего китайского языка, тематическая подборка цитат из китайских манускриптов, составленная одним из первых русских востоковедов, станет ценнейшим источником. Кюнер же проверил и исправил переводы Бичурина, написал вводную статью, составил научный комментарий. Когда Кюнера не станет, Ахматова напишет Гумилеву в лагерь: «Он так любил тебя, что плакал, когда узнал о постигшем тебя». Якубовский получил два высших образования — на историко-филологическом и восточном факультетах.
Его самым известным курсом была «История Халифата», одной из лучших научных работ — статья «Арабские и персидские источники об уйгурском турфанском княжестве в IX — X веках». Много лет спустя Гумилев будет охотно использовать историю арабов и Халифата для доказательства своей пассионарной теории этногенеза.
О пророке Мухаммеде и борьбе религиозных партий Гумилев будет рассказывать уже в собственном курсе лекций, а Турфан и уйгуры станут одним из самых любимых сюжетов его степной трилогии. Кроме того, в году Якубовский в соавторстве с Грековым выпустит монографию о Золотой Орде, за которую несколько лет спустя получит Сталинскую премию.
Книгу эту Гумилев, конечно, читал, хотя вряд ли одобрил, он смотрел на историю Орды совсем иначе. Лучшим лектором исторического факультета и самой яркой личностью среди тогдашних историков был Евгений Викторович Тарле, как раз вернувшийся из ссылки и вскоре в году восстановленный в звании академика.
На лекции Тарле по европейской истории XIX века приходили студенты с других факультетов и даже из других вузов. Лекции многие не записывали, словам Тарле просто внимали, отложив в сторону конспекты и карандаши.
В январе го Гумилев сдавал Евгению Викторовичу экзамен по Новой истории и получил оценку «отлично». Уже после войны Гумилев даже похвастается таким учителем перед Исайей Берлином.
С первого же курса студентов разделили на пять академических групп, три мужских и две женские. Условия для занятий были неважными.
Читальные залы размещались в обычных аудиториях, сосредоточиться мешал доносившийся из коридора шум.

Некоторые лекции читали в актовом зале, где приходилось устанавливать столы и стулья, на это уходило все начало занятия. В — годах учебников практически не было, к экзамену готовились по лекциям, которые еще несколько лет назад считались устаревшим и даже буржуазным методом преподавания.
Конспекты передавали из рук в руки и зачитывали до дыр. Издавались импровизированные учебные пособия. Например, еще в году в ЛИФЛИ появился курс лекций по истории Древнего Востока, подготовленный на основе конспектов двух студентов, Теодора Шумовского будущего известного арабиста, переводчика Корана и Михаила Черемных.
Шумовский записывал медленно, а Черемных, рабочий парень, быстро, но безграмотно. Ни редактора, ни корректора не нашлось, профессор Струве вчитываться в студенческие записи своих собственных лекций не стал, а потому учебное пособие, гордо названное «История Древнего Востока, курс лекций по конспекту Т. Шумовского и М. Черемных», представляло собой нечто ужасное.
Замысловатые имена ассирийских и вавилонских правителей были напечатаны с ошибками, на каждую страницу приходилось десятка по два опечаток.